Недавно прошли две шекспировские (шаксперовские) годовщины — 450 лет со дня рождения и 400 — смерти. Подобные круглые даты отмечали в мире и полвека назад. У нас в стране то были годы оттепели, и оказывается, уже тогда делались попытки обсуждать шекспировский вопрос. Об этом рассказал в своих 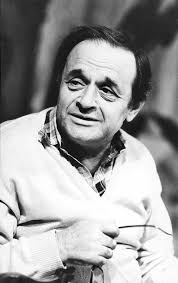 воспоминаниях известный театральный режиссёр и педагог Вадим Сергеевич Голиков (1932—2004).
воспоминаниях известный театральный режиссёр и педагог Вадим Сергеевич Голиков (1932—2004).
В 1950 г. он поступил на философский факультет ЛГУ. Во время учёбы участвовал в постановках университетского Театра-студии под руководством актрисы и педагога Е.В. Карповой. В 1958 г. был принят на режиссёрский факультет театрального института (курс Г.А. Товстоногова), закончив который, работал режиссёром в разных театрах, а также преподавал.
В 80-х годах Голиков написал автобиографическую книгу ИГРА ЛЮДЕЙ ЛЮДЬМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ: <ГоликовШ>. В ней он, в частности, поведал о том, как в 1964 г. в ЛГУ создали инсценировку «Шекспир и столетия».
Приведу этот фрагмент (чуть сократив):
…Многие годы я связан со студенческим театром Ленинградского университета. В этом коллективе я играл, учась в университете, там же делал первые режиссерские пассы и пассажи, последние годы являюсь его художественным руководителем.
Я еще не раз буду добрым словом поминать университет, но сейчас хочу говорить о давнем спектакле, драматически окончившем свое существование. Мне он кажется одним из лучших моих спектаклей (может быть, из-за его судьбы). История эта имеет много аспектов, я остановлюсь только на том, который касается поднимаемой мной темы.
Замысел спектакля родился коллективно. Сидели с ребятами-студийцами в университетском клубе и думали, что будем делать к 400-летнему юбилею Шекспира. Трезво взвесив собственные силы, мы решили, что всерьез этого автора нам не осилить. Не всерьез же университетский театр ничего не делает. А что если сделать спектакль о самом Шекспире?
В итоге длительного кропотливого труда возник сценарий под названием “Шекспир и столетия” (Размышление вслух в связи с 400-летним юбилеем). Первая часть называлась шаловливо-дерзко: “А был ли мальчик-то?” Эта шалость потом дорого обошлась.
В торжественной атмосфере юбилейного торжества, на фоне огромного портрета Шекспира в золоченой раме (не так давно, по случаю, совершенно освободившейся от другого портрета) появлялись трое ведущих:
— Мы собрались сегодня, чтобы отметить юбилей Шекспира. Шекспир… По словам Горького, “величайший драматург мира”.
— “Отец наш Шекспир”, как сказал Пушкин.
— “Человек-океан”, как сказал Гюго.
— Шекспир…
— Вернее, тот, кто скрывался под этим именем…
И начиналось… Один из троих явно срывал праздничное мероприятие, желая говорить о темных сторонах биографии Шекспира. Другой неумолимо возвращался к юбилейному пафосу (а надо сказать, градус шекспировского юбилея был высок и в стране и во всем мире, что, конечно, отражалось и на атмосфере спектакля). Третий ведущий пытался как-то примирить стороны. По ходу спора возмутитель спокойствия навязывал рассмотрение анти-шекспировских версий, которые сменяли одна другую. Им аккомпанировала смена портретов претендентов в Шекспиры в роскошной раме. Перед ошарашенным зрителем мелькали лица философа Фрэнсиса Бэкона, драматурга Марло, графов Оксфорда, Ретленда. Когда в ней появлялся список фамилий (Шекспир это псевдоним группы авторов), ортодокс бросался с кулаками на ревизиониста и на высокой университетской кафедре — спектакль шел в Актовом зале Главного здания — начиналась драка. Заканчивалось отделение на признании спорности авторства и бесспорности явления именуемого — Шекспир. В золоченой раме появлялось изображение театра “Глобус” с девизом “весь мир играет комедию”, под которым и шло дальнейшее представление.
Во второй части, называвшейся “Великий в представлении собратьев по перу”, те же актеры играли отрывки из пьес, где Шекспир был действующим лицом. Жалкий литературный уровень этих опусов позволял играть их пародиями на водевиль, мелодраму, политический детектив, бесконфликтную советскую пьесу. Всерьез и целиком исполнялась лишь “Смуглая леди сонетов” Б.Шоу.
Третья часть — “Великие о великом” — состояла из столкновений мнений о творчестве Шекспира, накопившихся за четыре столетия. Это был монтаж по принципу живой газеты. Сталкивались точки зрения панегиристов и ниспровергателей, соотечественников Шекспира и иноземцев, ученых и художников (писателей, актеров, режиссеров), современников Шекспира и современников зрителей, сидевших в зале. Заканчивалось действо словами Гёте: “Шекспир и несть ему конца!”
Несмотря на озорные повороты спектакля, весь он был пронизан уважением к великому драматургу. Он делал феномен “шекспировский театр” живым, а не академически холодным. После спектакля хотелось листать не только самого Шекспира, но и пыльные вольюмы шекспироведов. В этом признавались те немногие зрители, которым удалось побывать на спектакле. К сожалению, иначе реагировал на него партком университета. Была создана компетентная комиссия из педагогов-зарубежников филфака. Комиссия была компетентна во всем, кроме театрального юмора. Она квалифицировала нашу затею как антинаучную и потому сочла ее святотатственной для прославленных университетских стен. Спектакль (собственно, генеральные репетиции со зрителем) показали два раза, и поставили на этом точку.
