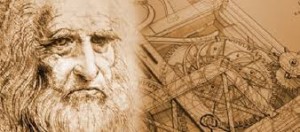 500 лет со дня смерти великого Leonardo di ser Piero da Vinci (1452—1519), ставшего хрестоматийным примером «универсального человека». У меня есть очень интересный сборник статей «Леонардо да Винчи и культура Возрождения» (М.: Наука, 2004), книга Мартина Кемпа «Леонардо» (М.: АСТ, Астрель, 2006; автор — историк искусства из Оксфорда, который много лет вёл в Nature рубрику Science in Culture), а также репринт издания 1912 г. трактата Зигмунда Фрейда «Леонардо да Винчи» (перевод с немецкого).
500 лет со дня смерти великого Leonardo di ser Piero da Vinci (1452—1519), ставшего хрестоматийным примером «универсального человека». У меня есть очень интересный сборник статей «Леонардо да Винчи и культура Возрождения» (М.: Наука, 2004), книга Мартина Кемпа «Леонардо» (М.: АСТ, Астрель, 2006; автор — историк искусства из Оксфорда, который много лет вёл в Nature рубрику Science in Culture), а также репринт издания 1912 г. трактата Зигмунда Фрейда «Леонардо да Винчи» (перевод с немецкого).
Вся жизнь винчианца была заполнена титаническим творческим трудом. Как художник он создал бессмертные произведения, причём некоторые из них, видимо, содержат скрытую символику, о которой до сих пор ведутся споры. А свои неисчислимые научные идеи и наблюдения он заносил в записные книжки, итогом чего стал своеобразный интимный дневник; всего таких книжек набралось 120 штук, ещё не все расшифрованы и изучены.
Фреска «Тайная вечеря» (1495—1498) в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.
Но его универсализм имел и обратную сторону, на которую обратил внимание А.Ф. Лосев в «Эстетике Ренессанса» (М., 1978). Он отмечал в его живописи «обнажённый рационализм» и «некоторую сухость», а в его научной деятельности — «необыкновенный размах, но и несистематичность, разбросанность, фрагментарность». И за всем этим Лосев видел его эгоцентризм, «неугомонную потребность всё охватить и над всем господствовать». Да ведь и сам Леонардо признавался: «Все свершения не могут утомить меня».

