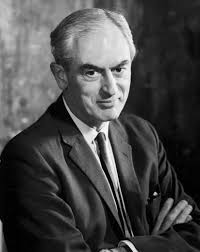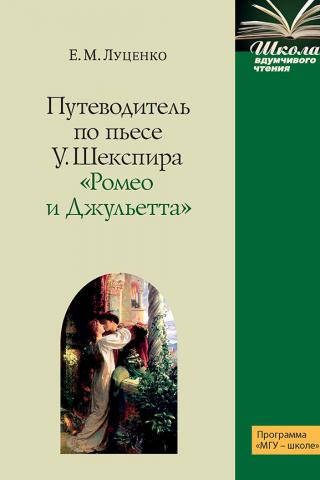В своё время не купил книгу Дэвида Мамфорда, Дэвида Райта и Кэролайн Сирис «ОЖЕРЕЛЬЕ ИНДРЫ. Видение Феликса Клейна» (МЦНМО, 2011, оригинал 2002 г.), но помнил о ней и наконец достал. Один из авторов Мамфорд (р. 1937) — известный американский математик, получивший медаль Филдса ещё в 1974 г.
В своё время не купил книгу Дэвида Мамфорда, Дэвида Райта и Кэролайн Сирис «ОЖЕРЕЛЬЕ ИНДРЫ. Видение Феликса Клейна» (МЦНМО, 2011, оригинал 2002 г.), но помнил о ней и наконец достал. Один из авторов Мамфорд (р. 1937) — известный американский математик, получивший медаль Филдса ещё в 1974 г.
Книга посвящена преобразованиям Мёбиуса (дробно-линейным преобразованиям на комплексной плоскости). Основная её цель — раскрыть тот достаточно простой матаппарат, что даёт возможность получать на компьютерах красивые картинки, соответствующие фракталам (название отражает их связь с образами восточной философии, буддизма). На эту тему есть известная книга Х.-О. Пайтгена и П.Х. Рихтера «Красота фракталов» (М.: Мир, 1993), писал о фракталах и я — вот мои статьи:
1) ПОСТИЖЕНИЕ ХАОСА (ХиЖ, 1992, № 8) <ПостХаоса>. О детерминированном хаосе, странных аттракторах, множестве Мандельброта.
2) ГАРМОНИЯ ХАОСА (ХиЖ, 1994, № 4) <ГармХаоса>. О выставке в Политехническом музее работ немецких математиков — полученных ими на компьютерах «портретов» хаоса, обладающих эстетической ценностью.
3) ПАЛИТРА И АЛГОРИТМЫ ПЕТРА НИКОЛАЕВА (ХиЖ, 1997, № 1) <П.Николаев>. О работах нашего специалиста в области искусственного интеллекта, который на основе фрактальных алгоритмов научился получать высокохудожественные компьютерные изображения.
Книга трёх авторов начинается с рассмотрения известных вещей (комплексных чисел, сферы Римана, стереографической проекции), а в конце подводит к переднему краю математики — гиперболической геометрии, фуксовым и клейновым группам, автоморфным функциям, программе Тёрстона… Наглядно показаны глубина и плодотворность идей, развитию которых положили начало Феликс Клейн и Анри Пуанкаре.
Большая книга «Ожерелье Индры» хорошо написана, в ней много цветных иллюстраций, поясняющих примеров и задач.


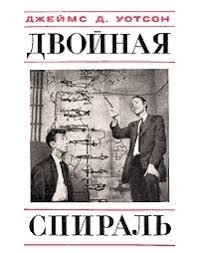

 № 330, куда потом попал и я) в большой статье
№ 330, куда потом попал и я) в большой статье